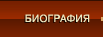«Экран и сцена»
России пророки не нужны.
Одним из самых ярких, сенсационных явлений Одиннадцатого Конкурса Чайковского стал Алексей Султанов. Талант мощный, дерзкий и масштабный. Который не ублажает душу, но взывает к совести и сильным, большим чувствам.
Однако жюри пианистов во главе с Андреем Эшпаем вольнодумца на третий тур не допустило. Очевидна по соображениям академической гигиены и клановой ортодоксии. Как, впрочем, и двенадцать лет назад на Восьмом.
Вам интересно взламывать освященные временем и слуховыми стереотипами трактовки произведений? И что Вас в этом богоборчестве увлекает — открытый вызов традициям или стремление с наибольшей полнотой выразить свое человеческое и художественное «я» ?
Мне интересно увидеть в произведении то, что до меня никто не увидел. Может быть, за исключением композитора. Но и это не обязательно. В любом нотном тексте объективно заложено все то, что может стать предметом переосмысления, а значит и открытия новых граней музыки. Рожденная гением композитора, она, выйдя из под его пера, начинает жить своей самостоятельной, независимой жизнью, Задача интерпретатора — понять и обнажить эту жизнь. Я всегда повторяю, что не должно быть культа композитора, должен быть культ музыки. Если мы, конечно, художники, а не ремесленники. А что касается вызова, то я никогда и никому его не бросал. Я играю так, как слышу и чувствую.
Ваше искусство называют стихийным, вулканическим. Вы отдаете себе отчет в таких качествах Ваших интерпретаций?
Не отдаю. И вообще подобные определения несерьезны. Я выражаю себя, свое отношение к Бегу, миру и людям. К самому себе. Не задумываясь о том, какими эпитетами наградят мою игру. И какое впечатление она вызовет. Разве мы задумываемся о том, какое впечатление произведет на окружающих наше дыхание? Если мы, конечно, не астматики или умирающие. Хотя, с другой стороны, мне, как артисту, важно, чтобы моя игра была интересна публике. Не сочтите за противоречие, но власть над аудиторией упоительна.
Ваше поражение на втором туре, когда жюри отстранило Вас от дальнейшего участия в конкурсе, стало Вашим триумфом. Именно на втором туре Вы с потрясающим драматизмом и концептуально убедительно исполнили Сонаты Шопена и Прокофьева. Если бы от оваций публики рухнул бы потолок Большого зала консерватории, то я не удивился бы. Не менее значительно Вы сыграли и Бетховенскую Аппасионату на первом туре. Хотя поэт и советует нам не отличать пораженье от победы, все же спрошу Вас: какие чувства у Вас вызвало скандальное решение жюри?
Не скрою, пережить было нелегко. Тем более во второй раз. После памятного 1986-го. И в последних. Мне уже двадцать девять. Следующий конкурс Чайковского в 2002 году. Возрастной барьер для участников —
32 года, а мне будет уже 33. Все. Что могу еще сказать о вердикте жюри? У нас разные художественные и нравственные позиции. Большинство из сидевших за судейским столом воспитано в духе догматизма и отвергает плюралистический, творческий подход к музыке и жизни. Все свежее, непривычное, самобытное отбрасывается ими с ходу. Голоса людей совестливых, эстетически чутких тонут в этом болоте. Ну а сами результаты конкурса были предрешены еще задолго до его окончания. И не только музыкальными деятелями, но и, смею думать, финансовыми тузами.
Почему не заступился за Вас Ваш замечательный профессор Лев Наумов, впервые за сорокалетнюю историю Конкурса приглашенный в жюри?
Заступился и в знак протеста хотел выйти из жюри. Андрею Эшпаю пришлось почти всю ночь уговаривать Льва Николаевича остаться. А вообще он — подлинный жрец музыки, бесконечно далекий от интриг. В знак несогласия с жюри и Клайберн на конкурс не приехал.
Волей - неволей приходишь к выводу, что Вас использовали в качестве «мальчика для битья». Так было на втором туре Восьмого конкурса Чайковского, когда Вы играли со сломанным пальцем — под анестезией. И тем не менее играли блистательно. Что отметил тогда и покойный Лев Власенко. Так случилось и на Одиннадцатом. Кому это выгодно?
Никому. В проигрыше все — и жюри, и участники, отвергнутые или, наоборот, незаслуженно заласканные, и публика, мнением которой пренебрегли, и сам конкурс, международный престиж которого за последние годы сильно упал. Что даже привело к его исключению из Всемирной федерации Международных музыкальных конкурсов. Я просто перешел кому-то дорогу.
Завидуете победителям?
Разумеется. По-доброму. Тем более, что они — мои друзья. Другое дело, что я критически оцениваю стиль пианизма Московской консерватории. Растеряв все от прежней дореволюционной школы пианизма,она безнадежно отстала и от мировой современной. Которая ставит во главу угла не насилие над личностью и нивелировку индивидуальностей, а их раскрытие, расцвет. Драма отечественной школы — наследие советского прошлого.
Вы на себе испытали тенденциозность и необъективность вердиктов на Конкурсе Чайковского. Что заставило Вас — лауреата солидных международных конкурсов и гастролирующего по всему миру артиста — принять участие в Одиннадцатом Московском? Жажда удостоиться официальных почестей от российских властей? Азарт еще раз проверить свою судьбу?
Позвал сладкий «дым» отечества. Я уже восемь лет живу в Соединенных Штатах. В России мои родители, здесь все родное. Хотел вернуться. Но признанным — Россией. Тем более, что в стране многое изменилось, кто-то забыл обо мне, кто-то вообще меня не знает. Да и наивная вера в демократическое переустройство общества подвела. Вывески поменялись, партийные билеты выброшены в мусорные корзины. Правда, не все. Однако тоталитарная, совковая сущность людей, их психология остались прежними. За иллюзии приходится платить.
Вам не кажется, что Россия теряет деятелей культуры, которые в поисках признания и достойной оплаты труда уезжают за границу.
Кажется. Но России пророки не нужны. Ей нужны серые, послушные и мало чем отличающиеся друг от друга обыватели.
Если бы Вы родились не в своем отечестве, а в другой стране, смог ли расцвести Ваш талант так же ярко и самобытно, как теперь?
Пожалуй, нет. Талант подпитывается всем укладом жизни родной земли, ее историей, культурой, вековыми традициями. Ее людьми, которые думаю так, а не иначе. Попробуйте вырастить нашу березу где-нибудь в долине реки Амазонки. Она зачахнет.
Когда впервые в Вас заговорил музыкант?
Очень рано. По рассказам мамы моя детская кроватка стояла рядом с пианино. Можно было протянуто руку и нажимать на клавиши. Что я все время и делал. Было мне тогда около года. Родители мои — музыканты Мама, Наталья Михайловна, — скрипачка, папа, Файзул Абдулхакович, — виолончелист. Оба преподавали а Ташкентской консерватории. Дом всегда с утра до позднего был полон студентами и музыкой. Звучали классические дуэты, трио, квартеты. Прислушивался. В три с половиной с криком «Мамочка! Я сочинил Трио Бетховена» бросился к пианино и сыграл абсолютно точно мелодически и гармонически то, что слышал. Где не доставал крохотными пальцами, помотал носом. В четыре, не зная нотных знаков, по слуху переворачивал партитуры взрослым. В пять, когда папа на аспирантском экзамене исполнял сложнейший Концерт для виолончели Хиндемита, страшно заерзал на стуле: «Папа, неплавильно, неплавильно!» И оказался прав. В пять с половиной меня повели к Тамаре Афанасьевне Попович — моей первой учительнице. Она и меня, и моих , схватила, что называется, железной рукой за горло: «Не хотите требовать от ребенка — забирайте!» К концу каждой недели был обязан сдавать ей по шесть этюдов наизусть. Все детские годы много и сильно болел. А тут пришлось ходить на уроке через весь город пешком. Ежедневно. При любой погоде. Транспорта не было. Здоровье сразу стало лучше. В шесть лет сыграл с оркестром Двадцать восьмой Концерт Моцарта. Это было мое первое концертное крещение. Вскоре отличился с Первым Концертом Шопена. Тоже публично.
Как Вы оказались в Московской консерватории?
Когда мы жили в Ташкенте, мама каждый год по два-три раза возила меня в Москву на консультации вначале к преподавателю ЦМШ Александру Багулову и ассистенту Веры Васильевны Горностаевой Елене
Рихтер, позже — ко Льву Николаевичу Наумову. С четвертого класса школы и по требованию Попович. Помню первый визит к Наумову. Тесная квартира, до отказа забитая нотами, книгами, игрушками и огромным роялем. В кресле сидел хозяин дома. Едва начал играть, как Лев Николаевич внезапно окликнул жену: «Ирочка, Ирочка, иди сюда! Здесь мальчик, который все понимает». Со временем был принят в консерваторию. Болезни мои никак не оставляли меня. И папа с мамой решили, что надо быть со мной. Чтобы раздобыть деньги на проезд, папа продал свою бесценную виолончель работы старинного французского мастера. В Москве начались скитания по квартирам, унизительная, изматывающая волокита с пропиской. В конце - концов, поселились за городом. Безденежье. А тут и стипендии меня лишили. За то, что я в перерыве лекции по марксизму - ленинизму сыграл джазовую композицию на тему «до-ре-ми-до-ре-до». Что на музыкальном языке означает послать кого -то подальше. Так что прелестей системы нахлебались вдосталь.
Люди готовы объяснить издержки Вашего пианистического своеволия тем, что Вы не захотели окончить полный курс консерватории, бросив ее на третьем курсе.
Мне не дали доучиться. Засыпали повестками в армию. Военкомат и милиция устраивали на меня форменные облавы. Вопреки правительственному постановлению о предоставлении отсрочек лауреатам первых премий международных конкурсов. После того, как в одной из столичных газет появилась статья в мою защиту под шокирующим заголовком «Лопата вместо рояля», террор усилился. Пришлось спасаться в Соединенных Штатах. Вместе с моей подругой, ныне моей женой и менеджером, Даце Абеле. Рижанкой. И моей сокашницей по консерватории. Она — виолончелистка. Тогда я уже был победителем Конкурса Клайберна.
Как сложилась Ваша жизнь в Америке?
Сначала нас приютили знакомые. Мои американские гастроли приносили хорошие гонорары. И большая часть их присваивалась Госконцертом. Однако мне удалось купить в кредит домик в Техасе, в Форт -Уорте, где живет и Клайберн. Заключил контракт с крупнейшими агенствами, в том числе с Columbia Artist Mar -agement. Конкурс Шопена в Варшаве позволил мне завоевать концертные подмостки в крупнейших городах Европы, Японии, Китая. Играл во многих знаменитых залах мира — Карнеги Холле, Кеннеди Центре, Ла Скала, Акрополисе, Тайванском концертном, других. Сотрудничаю с оркестрами Питсбургским, Филадельфийским, Лондонским, Берлинским, Хельсинкским, Токийским. Среди дирижеров, с которыми довелось работать, — Иегуди Менухин, Максим Шостакович, Павел Коган, Казимир Корд, Эдуардо Мата, Юстус Франц. Всех не перечислишь. Записал девять компакт-дисков. И ... учусь: постоянно приглашаю к себе в Штаты Тамару Афанасьевну. Хочу знакомить ее с Америкой, а она — «Марш за рояль!»
А с Владимиром Горовицем встречались?
Да! Когда я стал первым лауреатом на Конкурсе Клайберна, мне подарили свидание с Горовицем. Ему было далеко за восемьдесят, но меня встретил бодрый, подтянутый и очень озорной человек. Попросил что-либо сыграть. Я и сыграл ему Сонату Моцарта. «А я тоже так умею», — кокетливо заявил он и сел за инструмент. После этого мы часа четыре играли то поодиночке, то в четыре руки, и вообще дурачились. Попутно отвел душу, разговаривая с Горовицем на родном русском языке, по которому изрядно истосковался. Рассказал гостеприимному хозяину, как мне довелось слушать его во время исторического приезда маэстро в Москву и 86-м. Чтобы попасть на концерт Горовица, мы, студенты, разбили стекла в школе рядом с консерваторией, залезли на чердак и, прыгая по крышам, проникли в люстру Большого зала. Которая и стала для нас персональной ложей. Когда лазали по крышам, одна студентка поскользнулась и чуть не свалилась вниз. Я успел удержать ее за волосы. Это была Даце. С того случая мы и подружились. Горовиц страшно расхохотался и попросил прощения за то, что «так получилось». Через два месяца его не стало. А еще через год я играл в Карнеги Холле на том самом инструменте, который привозил с собой Горовиц в Москву. Именно им в тот памятный вечер я и любовался с высоты птичьего полета, вися на люстре. Я выбрал его из пятнадцати предложенных мне «Стейнвеев» накануне концерта, даже не ведая, что это рояль великого пианиста. На нем можно было сделать все, что хочешь: любые краски, нюансы, динамические градации.
И кто является Вашим кумиром в пианизме?
Владимир Горовиц, безусловно. А еще Святослав Рихтер, Артур Шнабель, из мастеров прошлого Иосиф Гофман. Их записи для меня — откровение.
В современном музыкальном исполнительстве отчетливо наметилась тенденция к сверхскоростям, звуковой агрессии и эмоционально-эстетическому примитивизму: певцы надрывают голосовые связки, скрипач и виолончелисты рвут струны, пианисты наваливаются всей силой своих недюжинных мускулов на бедный рояль. Грешите этим и Вы. Правда, известный музыкальный критик Тамара Грум-Гржимайло увидела в Вашем пианизме рождение нового синтетического стиля XXI века, стиля на стыке форсированных звучаний и значительности художественных высказываний. Что Вы думаете по этому поводу?
Любое насилие всегда отвратительно. Поэтому в музыкальном исполнительстве следует говорить не звуковой агрессии, а о звуковой мощи. Она оправдана, если служит выявлению концептуального замысла, образной идеи. Этого я и придерживаюсь. Если такой проницательный критик, как Тамара Николаевна, подметила в моей игре признаки нового направления, то я могу лишь быть благодарным ей. Сам я об этом никогда не задумывался.
Герард Кимеклис.
«Коммерсантъ-daily» 1998 год
У кого есть шанс не дойти до третьего тура.
С тех пор, как слоган «победителей не судят» вошел в обиход, принято не задумываться над судьбой «побежденных». «Коммерсантъ» решил обратиться за комментариями к Наталье Погореловой — матери Алексея Султанова, явного фаворита конкурса пианистов, не допущенного на третий тур. Беседует музыкальный обозреватель Елена Черемных.
— Почему пианисту Алексею Султанову, у которого эксклюзивные контракты с Japan art и Colambia. у которого один концерт в Америке стоит $8-9 тыс., который 12 лет благополучно выступает зa рубежом, было важно играть на конкурсе им. Чайковского?
Ему было важно вернуться в Россию. Получив пинок 12 лет назад (Алексей Султанов уже участвовал в конкурсе им. Чайковского, когда ему было 16 лет и он заканчивал 11-й класс ЦМШ), он буквально через год после этого взял первую премию на конкурсе Вана Клиберна. И по условиям той победы он должен был отыграть 200 концертов. Учтем, что в те годы наш Госконцерт забирал у музыкантов 67 процентов от выступлений. А мы ведь переехали в Москву из Ташкента, и у нас здесь практически ничего не было. И еще, над Лешей постоянно висела угроза армии. Надо было как-то спасаться. Теперь же он вернулся на «чайник», уверенный в себе. Да и мы ему постоянно пели по телефону: «Приезжай, приезжай, в Москве теперь и публика другая, и все иначе». Что говорить, Леша просто хотел сюда вернуться.
— Насколько ваш сын был готов к тому, что произошло?
Он рассчитывал на лучшее, но был готов и к самому худшему.
— Почему?
12 лет назад его так же плавно отсеяли со второго тура. Что произошло? Буквально на жеребьевке Лешка сломал палец и играл под заморозкой (мы нашли спортивного врача, который делал ему укол, как футболисту, азотом). Укола хватало на три минуты. Остальное игралось на чистой боли. Первый тур — прекрасно. Второй — тоже. Лешку согнали со второго тура, и жюри отговорилось жалостью: «Пусть не мучит свой палец».
— Чем жюри отговаривалось теперь?
Его учитель, который, в свою очередь, учился у Нейгауза,— Лев Николаевич Наумов, объясняет случившееся тем, что все иностранные члены жюри поставили огромный балл. А наши — нижайшие баллы. Тем самым все высокие оценки оказались аннулированы.
— Зато у профессора Доренского в финал прошло четыре ученика. Даже Руденко, который почти провалился на втором туре. Может быть, стоило идти в класс не к Наумову, а к Доренскому?
Ни за какие коврижки он бы не сделал этого.
— Хотелось бы получить хотя бы неофициальный расклад в жюри. Кто был за Султанова?
С утешениями подходили Андрей Эшпай, Черны-Стефаньска. Говорят, что за него голосовали представители Австрии и Германии. Американец Поллок. Но Доренский ведь очень много общался с Поллоком и, видно, о многом с ним договорился.
— Объективности ради. неужели ему было не с кем здесь соперничать?
Что вы, конечно, было с кем. Есть же хорошие ребята — Денис Мацуев, англичанин (Фредерик Кемпф.—«Ъ»), Вика Корчинская-Коган. С этими ребятами он бы сражался хорошо и на равных. Но его отблокировали. Канал «Культура» и с первого, и со второго тура показывал — хоть полсекунды! — всех, кроме Алеши. Мне было противно от предчувствия всей этой грязи. Теперь же, когда она пролилась,— все равно.
— Что теперь?
Теперь мы хотели, чтоб сын отдохнул. Были планы поехать на дачу. Но боюсь, что Лешка с женой уже пошел за билетами.
Елена Черемных.
«Литературная газета»
№29(5708), 15.07.98.
Алексей Султанов , бунтарь из династии « демонических пианистов»
Жизнь пианиста Алексея Султанова напоминает мистический детектив. Ему не суждено было стать ни лауреатом одиннадцатого Конкурса Чайковского в июне 1998-го (хотя превосходство его таланта казалось неоспоримым), ни лауреатом восьмого -в июне 1986 года (хотя его, шестнадцатилетнего, тогда уже называли лидером "советской команды" пианистов). И тогда, и теперь его бунтарская вдохновенная душа пронеслась под сводами конкурсного зала - в облике ли Бетховена или Шопена, Чайковского или Прокофьева, - оставив гипнотический след музыкального "инакомыслия" и щемяще печальную мысль о том, что Конкурс Чайковского уже никогда не назовет Султанова в числе своих блестящих победителей - Сегодня Алексею 29 лет. Это был последний шанс и для пианиста, и для конкурса, который мы называем "нашим национальным достоянием".
Между тем жизнь бывшего студента Московской консерватории, "вундеркинда из Ташкента", еще девять лет назад переломилась надвое и перенеслась в Америку, повторив траекторию биографий таких его предшественников на поприще мирового пианизма, как Иосиф Гофман, Сергей Рахманинов, Владимир Горовиц. Если вслушаться, то в своевольном и страстном, ошеломляюще виртуозном фортепианном творчестве Алексея Султанова можно почувствовать "наследие" всех этих трех. Однако дух Владимира Горовица, которого западная пресса называла "последним из величайших демонических пианистов", пересилил, и явился в облике живого легендарного пианиста, его живых "говорящих" пальцев, чудесных клавиш его любимого Стейнвея, который он привез с собой на гастроли в Россию в апреле 1986 года (после 60 лет разлуки) и которые так зачаровали ученика ЦМШ Алешу Султанова. Он не попал на тот исторический концерт Горовица по билету, но умудрился слушать и наблюдать его с высоты... центральной люстры Большого зала Московской консерватории, куда пробрался по крыше с группой "единомышленников". Кто знает, быть может, именно там, на люстре, в день единственного концерта Владимира Горовица в Москве и вселился в него ЭТОТ ДЕМОН... И, быть может, именно это экстраординарное событие предвосхитило экстраординарную судьбу "русского американца" Алексея Султанова -демонического пианиста с ангельским личиком нежного ребенка.
Алеша, как вы знаете, у нас в России об "аншлаговых" концертах говорят: "Висели на люстрах!" Я не знала, что в Большом зале Московской консерватории это и на самом деле возможно.
Да конечно. В этой центральной люстре Большого зала есть такая специальная площадка для тех, кто люстру ремонтирует. И она была забита студентами в тот день, 20 апреля 1986 года, когда Владимир Горовиц давал свой концерт. Оттуда было видно все - мы прямо над Володей сидели. Была видна вся клавиатура. И я услышал фантастическую игру живого Горовица, о чем и помыслить ранее не мог. А рядом со мной "на люстре" сидела моя будущая жена Даце Абеле, виолончелистка из Риги, с которой мы не расстаемся вот уже почти 13 лет. Когда через некоторое время мы с Горовицем встретились, я рассказал ему эту историю. И Володя очень долго смеялся и извинялся. Ведь я ему сказал: "Из-за тебя мне пришлось жениться". Это, к сожалению, была единственная наша встреча, которую организовали Конкурс Вэна Клайберна и Том Фрост, продюсер Горовица.
Где же произошла эта встреча?
На его нью-йоркской квартире, в Манхеттене. Мы провели вместе часа три. Я играл ему Сонату Моцарта и "Мефисто-вальс" Листа в его обработке (он сделал роскошную обработку!). Кстати, недавно я выучил Вторую рапсодию Листа в его обработке - совершенно "неигральное" произведение, жутко трудное, но невероятно эффектное. Горовиц был непревзойденным мастером этих супервиртуозных обработок.
А еще какие транскрипции Горовица вы играете?
Вариации на темы "Кармен" - очень известную транскрипцию. А еще Вторую сонату Рахманинова в его редакции. Горовиц ведь "смешал" первую и вторую редакции сонаты, и сам Рахманинов всегда говорил' "Он делает мою музыку, играет ее лучше, чем я сам"... А потом мы с Горовицем поиграли в четыре руки "Фантазию" Шуберта. Поговорили, Он, конечно, уже старенький был, с причудами, но ужасно милый. Каждые три минуты вскакивал и приговаривал: "Я самый лучший! Я самый лучший!" Но он удивительно все соображал и идеально говорил по-русски. За 60 лет разлуки с Россией так сохранить русскую речь!
А знаете, в Москве на пресс-конференции Владимира Горовица в апреле 86-го перед его концертом я подошла и пожелала ему: "Ни пуха, ни пера!" И он, благоухающий изысканными духами, в своей кокетливой американской бабочке, тут же, не запнувшись, воскликнул: "К черту!" -будто Россию никогда и не покидал.
Вот как! (Смеется.) Между прочим, когда мы с Горовицем прощались, он пригласил меня на свой день рождения в начале октября. Но в это время, к сожалению, я не смог приехать, потому что записывал в Лондоне свой первый альбом - с лондонским симфоническим и дирижером Максимом Шостаковичем: писали Первый концерт Чайковского и Второй Рахманинова. И как раз во время этой записи мне сообщили, что Владимир Горовиц умер... А через полгода после нашей единственной встречи мне довелось еще встретиться с его... роялем, тем знаменитым Стейнвеем 503, который приезжал с Горовицем в Москву и сопровождал его во всех гастролях. Я сам его выбрал (не зная его "биографии") для своего дебюта в Карнеги-холлс, который состоялся 3 мая 1990 года.
А что вы играли в этом концерте?
А вот афиша, которая висела на Карнеги-холле. Мои родители потом её сняли и повесили здесь, в квартире на Беговой, Играл Моцарта, бетховенскую "Аппассионату", "Мефисто-вальс" Листа, Пятую сонату Скрябина и Седьмую Прокофьева. Успех был огромный. Я почувствовал поддержку публики с самого начала.
Вы стали победителем Конкурса имени Вэна Клайберна в 1989 году. Видимо, это фактически и определило вашу судьбу?
В общем то, да. Это изменило всю мою жизнь. Потому что Конкурс Вэна Клайберна на два года становится менеджером тех, кто выиграл первые три премии, и организует обширные гастроли.
И вы так и не закончили Московскую консерваторию!
Я закончил только три курса у моего гениального московского учителя - Льва Николаевича Наумова, а потом возникло очень много концертов в Америке... Кроме того, я должен был "слинять" из-за угрозы призыва в армию. И не мог появляться в России, пока мне не исполнится 27 лет.
Здесь вы с Евгением Кисиным в одном амплуа. Чего не скажешь о вашем отношении к конкурсам. Ведь Кисин и его наставники изначально заняли позицию полного отречения от участия в конкурсах. Вы же дважды участвовали в Конкурсе Чайковского, победили в конкурсах Клайберна и Шопена, в Варшаве, совсем недавно, в 1995-м.
Знаете, сейчас столько в мире конкурсов! Это стало таким обычным, все равно что,., в казино сходить! В некотором роде, простите. К сожалению, и Конкурс Чайковского тоже стал такой "общедоступной" ареной, где могут играть все, кто заплатил взносы. И, естественно, за последние 12 лет, годы "демократизации" России, его уровень понизился. Хотя я ни в коем случае не хочу умалять его престиж, Потому что эти четыре конкурсные "глыбы" - Конкурс Чайковского, Конкурс Вэна Клайберна, Королевы Елизаветы в Брюсселе и шопеновский в Варшаве - остаются самыми престижными конкурсами в мире.
Вы думаете, такая оценка существует в мире? Или это ваш личный взгляд?
И мой, и мировой... Потому что именно у лауреатов этих конкурсов всегда самые удачные музыкальные карьеры. Но я не мог повторить свою "попытку" на Конкурсе Чайковского до 96-го года, не рискуя загреметь в армию. Тогда, в 95-м, я выбрал Варшаву. И это выглядело достаточно экстравагантно. Дело в том, что за 5 лет до этого я имел в Варшаве сольный концерт как лауреат Конкурса Клайберна и известный музыкант в мире. Потом еще через два года я приезжал играть с оркестром Варшавской филармонии, и меня встречали, как известного артиста, - все как полагается. И вдруг я приезжаю, как школьник, пацан, с нотами в сумочке через плечо, играть на Конкурсе Шопена!
Как же вы с вашим абсолютно нетрадиционным, экстатичным, отнюдь не инфантильным, но мощнейшим по внутренней взрывной энергетике Шопеном решились приехать в обитель блюстителей "подлинного" Шопена?
Несмотря на то, что у многих членов жюри этого Тринадцатого шопеновского конкурса оставался догматический подход к фортепианному стилю, который, можно сказать, был "изобретен" Галиной Черны-Стефаньской, когда они с Беллой Давидович разделили первую премию, мне постепенно удалось их достаточно переубедить, чтобы они признали мою победу. Галина Черны-Стефаньска, сидевшая в жюри, мне кажется, пережила целую эволюцию по отношению ко мне. Обычно ей не нравился мой Шопен. И после моего первого тура в Варшаве она отреагировала очень сдержанно. После второго тура уже начала "меняться", а после третьего она уже мне ставила самые высокие баллы. А после четвертого тура - финиша - все жюри во главе с Яном Экером провозгласило меня победителем. Кстати, в Москве, на нынешнем Конкурсе Чайковского, как мне стало известно, Черны-Стефаньска была в ужасе, когда меня не пропустили в третий тур, буквально рвала и метала...
А какой шопеновский стиль вы цените? Кого из "шопенистов" признаете?
Я принимаю любого "шопениста", потому что Шопен универсален, и каждый может найти в нем "свое". Но, допустим, мне очень нравится Шопен у Горовица. Очень нравится Шопен у старых польских пианистов рубежа XIX - XX веков - Игнаци Фридмана и Иосифа Гофмана...
Немножко салонный такой?
Да, вальяжный такой, но какой-то очень своеобразный, я слышал запись многих шопеновских миниатюр у Фридмана и Гофмана... Потом мне нравится кубинский пианист Джордж Болет, очень известный в Латинской и Северной Америке. Он недавно умер, к сожалению. Из современных пианистов не могу, но назвать Марту Аргерих - музыканта глобальных масштабов. У Рихтера был потрясающий Шопен!
А вам не приходилось ли слышать записи старого Нейгауза?
О, конечно! Нейгаузы - оба: и Генрих, и Станислав - всегда были замечательными исполнителями Шопена, особенно его h-moll'ной Сонаты и баллад. А этот нейгаузовский романтический подход, нейгаузовский звук - это целая эпоха...
К счастью, и вы, Алеша, оттуда - из этого же нейгаузовского "гнезда", А кого из музыкантов вашего поколения вы цените достаточно высоко?
Есть среди них, конечно, уникальные, как, например, Женя Кисин, как Саша Карсантия, недавно получивший первую премию на Конкурсе имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве. Он сейчас живет в Индиане, где Александр Торадзе открыл свой маленький музыкальный отдел в университете; Курсантия -его ассистент.
Так много "наших" в "ваших" американских краях!
Не забудьте еще Владимира Виардо, который успешно преподает и концертирует.
Вы теперь живете в Форт-Уорте, в штате Техас, в "зоне" Вэна Клайберна и конкурса его имени. Встречаетесь ли вы с Вэном?
Мы видимся иногда. Во время конкурса, кстати, он трогательно "опекал" всех участников. Но он не любит часто показываться на людях. Правда, обожает супермаркеты. Иногда мы видимся на каких-нибудь приемах. А года два назад мы неожиданно встретились с ним в Японии, где скрестились наши гастрольные пути.
Неужели он много гастролирует?
Конечно, Вэн уже не прежний. Вэн в смысле состояния здоровья. Недавно с ним произошел такой случай. Он открывал роскошный концертный зал в Форт-Уорте, только что построенный в центре города. И вдруг с ним что-то случилось во время исполнения финала Второго концерта Рахманинова: он упал прямо на сцене в обморок. Правда, через полчаса он уже шутил... Он же очень теплый человек, очень открытый и общительный. А знаете, что он иногда вытворяет? Кажется, перед 1994,годом в новогодний вечер он сыграл сразу три концерта с оркестром: "императорский" концерт Бетховена - Пятый, потом Первый концерт Листа С-dur, а после перерыва своего родного Чайковского, Первый концерт. Играл с местным, форт-уортовским симфоническим оркестром и дирижером Джоном Джордано, который, кстати, всегда являлся председателем жюри Конкурса Вэна Клайберна.
А с кем вы из дирижеров дружите?
С Максимом Шостаковичем мы довольно часто перезваниваемся.
Он процветает? У него свой оркестр?
Свой оркестр у него был в Новом Орлеане. Но теперь он предпочитает ставить отцовские оперы и работать по контрактам. Мне с ним всегда было как-то удобно играть. Мы много концертировали вместе. Иногда приходилось играть концерты и без репетиций. И он идеально все ловил на лету. Даже когда мы играли Второй концерт Шопена, где очень много rubato, Максим попадал своим оркестром точно в конец самого труднейшего пассажа, самого "извращенного" в смысле неровности темпа. Он очень хороший музыкант, замечательный.
Поверьте, это очень приятно слышать. У нас в России его всегда считали типичным интеллектуалом, не способным, однако, на особые музыкальные откровения и вдохновения. А как вы, Алексей, относитесь к таким тонким материям, как вдохновение, минуты "озарения" на концертной сцене?
Есть такие вещи, о которых, простите, надо заранее позаботиться: проверить освещение, изучить зал и его акустику, изучить рояль и все его возможности... А на концерте нужно чувствовать людей, для которых ты играешь. Если зал небольшой, то и темпы некоторых произведений будут меняться. Если зал огромный, динамика, темпы, мощь - все будет другое. Все эти вещи нужно держать под железным контролем. Иначе будешь один "наслаждаться" на сцене, а в зале будет народ спать или книжки читать... Цель любого артиста - заинтересовать публику, заинтриговать ее. Приходится даже сначала, так сказать, "схватить публику за глотку", чтобы она стала "дышать" вместе с тобой и понимать твой малейший нюанс.
А вот "схватить за глотку" - это как? Каким способом?
Конечно, нужно внутреннее особое состояние, внутреннее вдохновение, глубина подхода к произведению и, естественно, очень хорошее, его техническое исполнение. Потому что для меня так: если человек играет неодухотворенно, бездарно, но очень хорошо технически, для меня это значит - он технически не подготовлен. Ведь если у него нет технических проблем, он позволяет себе отключиться от техники и - НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЫКОЙ! Но - полное внимание! На концертной сцене все время нужно сохранять трезвый мозг. Ну, конечно, для поддержания внимания публики можно "фокус" какой-нибудь сотворить, какой-нибудь технический "извив", не очень стандартный прием.. Но музыка от этого, естественно, не должна страдать, а, напротив, только приобретать.
Значит, вы все-таки импровизируете на сцене?
Всегда. А иначе как же?..
P. S. Для самых любопытных: у Алексея Султанова есть три главных "хобби" -джаз (он даже сочиняет в этом жанре), таэквондо (этим "корейским каратэ" он занимается по три часа в день вот уже восемь лет) и игра в гольф - самое недавнее увлечение. "Если этим заболеть, выздороветь уже нельзя, - утверждает он. - России этой "болезни" не избежать, вон сколько у нее необозримых пространств для гольфяных полей!"
Тамара Грум-Гржимайло
«Московский комсомолец», 08.07.98.
Скандальное имя. Чужой среди своих.
Алексей Султанов играет на публику— это его жизненный принцип.
Еще не были известны официальные результаты второго тура конкурса Чайковского. Еще музыкальные фанаты не сомневались, что любимец публики, "американский русский", бывший студент Московской консерватории, ученик Льва Наумова, лауреат престижнейших музыкальных конкурсов, пианист, имеющий контракты с крупнейшими агентствами, в том числе Columbia Artist Management inc. и Japan Arts, Алексей Султанов пройдет на третий тур конкурса. Но именно тогда в фойе Большого зала консерватории человеком, очень близким к жюри, была произнесена фраза: "Если Султанова пропустить на третий тур, то ему надо давать первую премию". Разумеется, первую премию Алексею никто давать не собирался. Равно как и вторую. Поэтому его попросту выкинули из соревнований.
Шок, который испытал сам Алексей, возможно, был меньшим, чем тот, который пережили его многочисленные поклонники. И тем не менее это интервью — вовсе не беседа с проигравшим. Конкурсант и судьи играли но разным правилам: один пытался продемонстрировать свое искусство музыканта, другие — мастерство интриги, В подобной борьбе не бывает победителей и побежденных.
Алексей Султанов говорит с акцентом. Конечно, не с узбекским, хотя он родом из Ташкента, а с американским. * Девять лет без русского языка дают о себе знать.
С позиций нероссийского музыканта как бы вы оценили уровень престижа конкурса Чайковского на сегодняшний день?
Престиж, безусловно, огромный. Потому что конкурс Чайковского всегда славился своими замечательными победителями.
Как вы тогда объясните то неприличное количество музыкальных «туристов», которые приезжают сюда из-за рубежа и участвуют в конкурсе, будучи абсолютными дилетантами?
Дело в том, что имя конкурса Чайковского остается очень престижным. Но сам конкурс за последние 12 лет потерян в качестве. Иностранные участники боятся сюда ехать, чтобы не попасть в историю, которая на этот раз произошла со мной. Поэтому я прекрасно понимаю иностранных участников, особенно таких, которые уже завоевали мировое имя.
В 1995 году вы исполнили свою мечту и сыграли на конкурсе имени Шопена. Но первую премию вы не получили...
Ее тогда вообще не присудили. Я же получил вторую премию. Конечно, мои интерпретации — немного смелые, нестандартные. Но в Америке и других странах их принимают безоговорочно. В то время Польша уже переживала политические перемены. Польская публика и общественное мнение созрели, чтобы принять интерпретации, отличающиеся от искусственно насаждающегося стандарта. Я в своих трактовках ориентируюсь на мастеров конца XIX - начала XX века, не на советскую фортепианную школу. И г моими интерпретациями в свободной Польше все-таки согласились, дав мне вторую премию - высшую, потому что первая не была присуждена никому. К сожалению, Россия и российское жюри еще не совсем созрели для понимания плюралистического подхода как к музыке, так и к жизни. Мне кажется, результаты XI конкурса Чайковского заранее планировались музыкальными деятелями и даже, возможно, спонсорами. Я здесь оказался совершенно ни при чем.
И тем не менее вы сюда приехали. Что это — желание взять реванш? Или наивная вера, что вас здесь по достоинству смогут оценить?
Моя основная задача была — вернуться в Россию. За девять лет моего отсутствия поколения поменялись кто-то меня помнит, кто-то нет. Поэтому сделать значительным возвращение в свою страну для меня было очень важно. Действительно, я несколько наивно полагал, что все поменялось в демократическом направлении. Но русская музыкальная культура сейчас терпит какой-то упадок. Как мне кажется, потому, что прежние партийные работники стали откровенными дельцами и беспардонными махинаторами or музыки. Меня очень порадовало, что в жюри наконец-то появился выдающийся педагог Лев Наумов, но мне кажется, что его посадили туда просто для какой-то отмазки.
Сегодня мы имеем некую фортепианную школу, которая именуется российской. Как бы вы ее охарактеризовали?
Ее корни — в нашем прошлом. После революции вдруг возникла некая "новая пианистическая школа', "новые традиции". Какие это "новые традиции"? Вся та попитическая перемена, которая произошла в России, очень устраивала лентяев. Равенство посредственностей - вот тот эстетический принцип, который был возведен в эталон. Догматическое мышление у педагогов диктовало, что все должны играть одинаково, виртуозность была заменена погоней за "великой идеей". Антивиртуозность, то есть опять-таки — лень, оправдывалась тем, что. надо играть «глубоко», при этом зачерпывая горстями фальшивые ноты, забывая текст, как это продемонстрировали некоторые участники финала XI конкурса Чайковского. И еще — если пытаться насильно всегда играть одинаково, то все происходит так: больше педали, больше каких-то глупых rubato, низкие темпы, попная а нти виртуозность, а для того, чтобы показать, что ты живой человек, а не робот, — зацепить пару фальшивых нот. Вот это — рецепт стиля Московской консерватории.
А может быть, в вас говорит обида, ревность по отношению к тем, кто прошел и победил?
Вовсе нет Я хочу по-настоящему поздравить победителей XI Международного конкурса. Потому что они в принцип» не виноваты, что победили: об этом позаботились. Но дело не в этом - они все равно остаются моими коллегами. Я желаю им железного здоровья, успехов и невероятной удачи. Потому что им это очень пригодится. И еще желаю им воспопьзоваться тем везением, которое выпапо на их долю. Я за них рад.
Уехав из Союза после третьего курса консерватории, вы больше ни с кем не занимались?
После моего отъезда я сидел без педагогов. Конечно, я каждый раз звонил Льву Николаевичу Наумову, если у меня возникал какой-нибудь вопрос, касающийся интерпретации определенного произведения. А потом я каждые два года стал приглашать свою первую учительницу из Ташкента - Тамару Афанасьевну Попович. Сначала я пригласил ее просто с тем, чтобы показать Америку, Техас, американский стиль жизни. Она прилетела около 11 часов вечера. И мы думали, что она отдохнет с дороги, выспится, и мы отправимся осматривать Техас. Не тут-то было! В пять утра раздается стук в дверь спальни:
Быстро идем за рояль!
Через двадцать минут я уже сидел за роялем, и она со мной прозанималась до восьми часов вечера.
— Теперь давай, показывай свою Америку!
Теперь каждые два года я ее выписываю недельки на три, когда мне нужно подготовить новый репертуар для своих сольных программ.
Что конкретно она вам дает?
Она изобрела невероятные технические упражнения - например, играть произведение в других ритмических рисунках, в других тональностях с сохранением аппликатуры, с перекрещиванием рук, или отбивая ногами ритм, при этом называя первые ноты в такте, и т.д. Это — полная инквизиция, преследующая первостепенную для нее, так же, как и для меня, задачу: идеальное знание текста и техническая раскрепощенность, которые должны служить музыке. Это звучит парадоксально, но пустая и неодухотворенная игра часто бывает результатом именно технической неподготовленности.
* Лично я американский акцент не заметил. Но во всех интервью правильно передан именно Алешин «акцент» (его выражения, обороты речи и т.п.)
"Республика"
№53(411) среда, 15 марта 2000 года
Техасец из Ташкента
16 марта в Доме Черноголовых играет Алексей Султанов
Затейливо тасуется колода: Алексей Султанов родился в Ташкенте, учился в Москве, женился на латышской виолончелистке Даце Абеле, живет в Техасе, а концертирует по всему миру... Пианисту нынче трудно поразить воображение публики техникой; Султанова любят не за беглость пальцев, за невероятный темперамент.
— Как вас занесло в Техас? Ковбои любят послушать фортепианную игру?
В Техасе, в городе Форд-Уэст, проходил конкурс имени Клайберна. Всех участников поселили в семьях. После победы у меня было много работы в Штатах. Но Госконцерт забирал себе 80 процентов гонораров. Жить в гостинице было не по карману, летать в Москву и обратнo каждые десять дней — тоже. Я купил себе небольшой домик по соседству с той семьей, в которой жил. Меня учили, как платить по счетам, как ходить в магазин, как пользоваться чековой книжкой... Это сейчас нет никакой разницы — Россия ли, Штаты, Латвия. А тогда, 10 лет назад, все было мне в новинку. К тому же я ни слова не знал по-английски. Но уже месяца через два был ,как собака: все понимал, но ничего не мог сказать. Потом разговорился и много глупостей, наверное, говорил поначалу...
— Где вы раздобыли себе латышскую жену?
В Москве, естественно. Тамара Афанасьевна Попович, мой педагог из Ташкента, всегда направляла своих учеников на прослушивание в Москву, в консерваторию, к Льву Николаеву Наумову. Я приехал — а там концерт Горовица. Пробраться было, конечно, совершенно невозможно. Но рядышком с консерваторией была английская школа. Надо было перепрыгнуть с крыши на крышу, попасть на чердак — и дело, считай, в шляпе. Только скользко было, дождь. За мной следом прыгнула девчонка и сорвалась, уцепился за антенну, схватил за руку, посмотрел — ничего, симпатичная, надо спасать. Вытянул. Это и была Даце. Мы вместе слушали Горовица из люстры Большого зала... Через год мне посчастливилось играть на этом самом рояле в Карнеги—холле. А еще через семь мы с Владимиром познакомились, я рассказал ему эту историю, и он засмеялся: «Ну вот, из-за меня тебе пришлось жениться!»
— Горовиц всегда возил «Стейнвей» с собой...
Да. У него было два инструмента: один, потуже — дома, другой, совсем легкий — в двух кварталах от Карнеги—холла, в магазине. Когда я выиграл Клайберновский конкурс и надо было писать компакт-диск, меня привели туда. Там стояло 15 роялей, на которых играли великие, и один — Горовица — в сторонке. «Минус бесконечность на пианиссимо (самое тихое звучание в музыке. — Прим. авт.) и плюс бесконечность — на фортиссимо (самое громкое)», — сказали мне. Очень надеялись, что я попрошу другой инструмент, потому что требовалось разрешение Ванды, жены Горовица. Но я выбрал именно его. Ванда не возражала.
— Вас все время сравнивают с Горовицем. А он слышал, как вы играете?
Один раз. Мы разговаривали два часа — я все оттягивал время, боялся играть. Но он подвел меня к роялю... Сначала я сыграл сонаты Моцарта, Прокофьева и «Мефисто—вальс» Листа с его, Горовица, «примочками». Потом он сел со мной (хотя два года уже не прикасался к инструменту), и мы в четыре руки сыграли Шуберта. Следующие два часа были сплошное музицирование... Он пригласил меня на свой день рождения, но у меня, к сожалению, была запись. Во время этой записи я узнал, что Горовиц умер.
— Вы уехали, даже не закончив консерваторию.
Я отучился у Наумова 2 года. Потом ездил туда-сюда, и однажды на паспортном контроле таможенник мне сказал: «Вы уклоняетесь от воинских обязанностей». Время тогда было дикое, откупился блоком хороших сигарет — пронесло. Но на восемь лет, пока мне не исполнилось 27 дорога домой мне была закрыт. И с Женей Кисиным была такая же история.
— А ваши родители?
Когда я поступил в консерваторию, они перебрались из Ташкента, чтобы быть ко мне поближе. Папа продал все, даже инструмент, чтобы поменять квартиру, но в Москву попасть все равно не удалось. Они осели в Подмосковье, практически без работы, а я все равно жил в oбщежитии — невозможно был тратить на дорогу 6 часов день. С первых же гонораров купил им квартиру в самом центре — за бешеные по тем временам деньги, 10 000 долларов.. Сейчас родители преподают Гнесинском колледже. Я их очень люблю. Но если они переедут в Америку — я, наверное, перееду на Луну.
— Вам нравится быть популярным?
А кому не нравится? Это ведь очень приятно. Но слушатели — это как деньги у хорошего бизнесмена: чем их больше, тем больше работы...
Он не стремится стать дирижером, как многие его коллеги: «Пока умеешь играть — надо играть, руками помахать всегда успеешь». По той же причине не преподает. После длинных турне у него частенько пропадает аппетит к игре и он неделями не прикасается к клавишам: играет в гольф, занимается тэйквандо, бродит по музеям. В общем, ведет нормальную человеческую жизнь. Без 12 ежедневных часов за роялем.
Насардинова
|
|
Мраком окутаны тайны нашего конкурса им. Чайковского. Не хочется называть пианиста Алексея Султанова жертвой мафиозной профессуры. Но разве кто-то из тонких ценителей возразит, что это не так? В 1986 году он участвовал в нем 16-летним мальчиком, недавно приехавшим из Ташкента, и был замечен публикой, но отвергнут жюри, имеющим своих протеже. И тут же получил Гран-при на престижнейшем конкурсе Клайберна! Позапрошлым летом он вновь приехал на конкурс Чайковского, и снова не прошел на третий тур. Это он-то, "самый дерзкий, самый заметный", как писали газеты. При том, что в финал протащили полуграмотную японку! Ну да зато выступление Султанова на втором туре запомнилось надолго: после его демонической Седьмой сонаты Прокофьева публика вышла прямо в тот самый знаменитый ураган, когда в Москве падали деревья. А одна радиожурналистка рассказывала, что во время подготовки к эфиру Алешиных записей пленки путались, расползались, как живые, рвались, терялись. Хотите, верьте, хотите нет — но такой вот персонаж. Недавно Алексей Султанов побывал в Москве, дал показательный мастер-класс, сыграл феерический клавирабенд в Гнесинском училище. Кто-нибудь почешется наконец устроить ему концерт в Большом зале консерватории? |
—Алеша, вечно с вами что-нибудь эдакое. В 86-м году на конкурсе Чайковского вы играли со сломанным пальцем. "Правда"напечатала тогда эффектный подвал — "Аппассионата" не отменяется".
Вы не поверите, но недавно я опять долбанул этот же палец! Во время занятий тэквондо. Уже шесть лет занимаюсь. У меня третий дан, черный пояс. Очень неприятно играть, больно.
—Что вам так не везет на конкурсе Чайковского? Там без блата никак?
Все гораздо глубже. Вот, например, профессор Доренский, который всегда заседает там в жюри, знаменит своей деловитостью. Торгаш просто. Но, объективно говоря, многие педагоги могли бы поучиться у него защищать своих студентов. Он бесконечно был деканом фортепианного факультета Московской консерватории. Помню, выносил мне выговоры, лишал стипендии. Но за месяц до выборов декана он вдруг становился ангелом: заходил в класс, настаивал на моем свободном посещении, пел дифирамбы. Потом его переизбирали — и он беззастенчиво разворачивался в прежнюю сторону... А на конкурсе Чайковского разработана такая система подсчета баллов, чтобы кюри удобно было грамотно завализать нежелательных кандидатов.
—Для вас все это дикие удары по психике?
Больше мама с папой переживают. Я с детства все пробивал сам, с Ташкента еще. В отличие от семей других вундеркиндов, у нас никогда не было полезных знакомств. Никакого блата у родителей в нужных кругах. А я тоже не выступал в пионерских галстуках, не играл концерты Хренникова. Глупо, наверное. Может, если играл, карьера сложилась бы раньше.
—Родители — музыканты?
Мама у меня скрипачка, папа —виолончелист, оба преподают. Бабушка— Замира Хидоятова, народная артистка Узбекистана. Она играла в Национальном театре. Вообще у нас пол-Ташкента родственников, но на большой сцене оказались только бабушка и я. Она умерла два года назад, и я устроил в Ташкенте концерт ее памяти.
—Со скольки лет вы за инструментом?
С трёх. Папа тогда еще аспирантуру не закончил, он все время репетировал Сонату Прокофьева, я ее слушал-слушал, раз пятьсот, потом по слуху стад ему аккомпанировать.
—А официально дебют на сцене?
В семь лет.
—Правда, что ваш ташкентский педагог Тамара Попович запирала вас в классе, только чтобы вы занимались?
Терпеть не могу заниматься!Но логика простая. Мне очень нравится играть. А плохо играть не нравится. Поэтому приходится заниматься. За три дня до концерта сижу часов по восемь.
—Я так и не поняла: вы Московскую консерваторию-то закончили?
Мы с Даце (Алешина жена. — Н. 3.) оба сорвались со второго курса. После победы на конкурсе Клайберна я должен был вернуться на третий. Но светила армия. И я здесь больше не появлялся. Один раз, в 91-ом, прилетел в Шереметьево из Германии —и меня тормознули на.паспортном контроле: "Уклоняетесь!.."Я им тогда подарил блок сигарет и попросил: "Сделайте так, что вы будто бы не включили компьютер". Потом я восемь лет не приезжал — ни играть, ни в гости, ничего. Пока мне не исполнилось 27 лет. Так что среди широких музыкальных кругов я скорее фигура мифическая. И половина публики меня, наверное, забыла.
—Вас забудешь... Телеканал "Культура" недавно показал вашесенсационное выступление наконкурсе Шопена, причем с весьма примечательным комментарием: первую премию не получил, но право ли жюри—судите сами. Что опять за история?
Года за два до этого конкурса Шопена я уже играл в Варшаве, и там меня знали. Но заявку на участие я подал в последний момент. А на конкурсе уже все было рассчитано: там все определял такой польско-японский интерес. Японцы были основными спонсорами, и на финал их запланировали как минимум двоих...
—Такое впечатление, что мы говорим о каком-то чемпионате. А там у вас в жюри тоже не было никакого блата?
Я играл от России, и от России сидел Мержанов. Это была подстава: он голосовал против меня. Я понимаю, Мержанов из той же компании...
—Насколько мне известно, вы тогда отказались от премии.
Ну, деньги я взял. Одно только мое проживание в Варшаве обошлось мне тогда в 10 тысяч долларов. Плюс звонки Даце в Техас. Но я не пришел на церемонию вручения и не играл на торжественном концерте лауреатов, который транслировало Евровидение. Организаторы тогда меня чуть не убили. Но газеты написали, что я принял правильное решение, и концерт лауреатов Шопеновского конкурса выглядел как выпускной экзамен школы-семилетки.
— В итоге пострадала публика, которая вас так поддерживала.
Не пострадала. На следующий день концерт повторили. Выступили первые пять лауреатов, и публика стала расходиться. Пришла моя очередь, я успел сыграть до-минорную Мазурку, потом Полонез — и уже к концу Полонеза в зале давились. Народ успел позвонить своим знакомым, начался ажиотаж. Я дал в тот вечер двухчасовой концерт. А на следующий день по просьбе публики выступил еще раз. Так что обошлось без претензий со стороны организаторов.
—Как получилось, что вы осели в Америке? После конкурса Клайберна Вас завалили предложениями, контрактами?
Я почти сразу купил маленький домик в Форт-Уорте. Потому что 85 процентов моих гонораров забирал тогда Госконцерт, а между выступлениями была, скажем, неделя, и гостиница безумно дорогая. Поэтому я и приобрел дом в рассрочку. На 30 лет.
—Почему вы не играете от Узбекистана? Было бы эффектно: первый узбекский пианист мирового уровня. Почему от России?
Через два месяца буду играть уже от Америки. Иначе мне придется то и дело отменять концерты. Везде обязательно нужна виза, и я уже замучился: то виза опаздывает, то ее вовсе не дают.
—С чем связан нынешний краткий приезд в Москву?
В Японии я записывал Сонату Листа, рояль расстраивался почему-то через каждые две страницы. Смонтировали клочками... Представитель фирмы, как и я, проездом оказался в Москве—и решили записать Листа здесь. Вот в Японии у меня фантастический ангажемент. Я записал там )же два компакта: один называется "Фантазия-экспромт", второй — "Султанов играет Шопена".
—Шопен у вас очень романтический. А Соната Листа на концерте была холодна как лед. Это месть Москве?
Я играю ее не с позиции Фауста, а без внешнего тепла, с позиции Мефистофеля. Как Горовиц. Если слушать в записи, то только в такой концепции она приобретает стройность, не расплывается, как это происходит у большинства исполнителей, играющих "с душой". В паузах должен витать ужас — и вы сами слышали, какая в зале стояла тишина. Лист — это не Шопен. Шопен ближе к Моцарту, гибкая, тонкая натура. Лист — скорее к Вагнеру, он более эпический. Это видно и по их отношению к женщинам: Лист холодно относился к своим любовным романам.
—Вы дали мастер-класс в Гнесинском училище. Неужели Алеша Султанов уже дозрел?
В моем понимании ученик приходит к педагогу как к Христу-спасителю, который наконец покажет, как сыграть пассаж, чтобы он получился. А русские педагоги за границей большую часть внимания уделяют эмоциональному состоянию студента, учат "чтобы пело". В результате толку почти нет. Надо сначала реанимировать технические способности ученика, дать понимание текста. А потом уже заниматься всеми этими нюнями.
Наталья Зимина